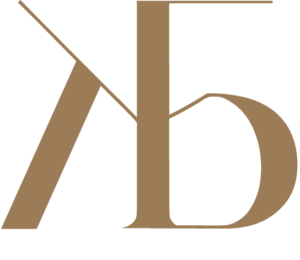Кришнаиты ISKCON — социальный эксперимент (часть 3)
Отождествление ISKCON с индуизмом ставит его в ряд (в лучшем случае в один) с мировыми религиями, а «Сознание Кришны» утрачивает, таким образом, свою трансцендентную суть. ISKCON задумывался не только как носитель духовного знания, но и как проповедническая организация. Из-за притока людей (индусов в том числе) меняется и организация. ISKCON встаёт перед выбором, как совместить массовость проповеднической организации и трансцендентную суть.
Первые шаги ISKCON в ФРГ
Американские ученики Прабхупады приехали в ФРГ в 1969 году. Побыв некоторое время в Западном Берлине, они перебрались в Гамбург, где открыли проповеднический центр и начали издавать немецкую версию журнала Прабхупады Back to Godhead (Zurück zur Gottheit). В 1969 году был открыт первый храм ISKCON в ФРГ — Rādhā-Kṛṣṇa Tempel. Храмы развивались и поддерживались за счёт продажи книг Прабхупады. Вскоре центры ISKCON появились во всех крупных городах Западной Германии. В 1974 году члены ISKCON, помимо распространения литературы, начали собирать деньги для программы Food Relief, позже известной как Food for Life. Целью программы было ежемесячное кормление тысяч людей в Индии. Именно сбор денег на эту программу вызвал у германской прокураторы подозрение в мошенничестве. Прокуратура заморозила счета ISKCON и начала допросы его членов (Backer 2020: 486–487).
С этого момента началась чёрная полоса ISKCON, нанёсшая серьёзный ущерб его имиджу в Германии. Как и в США, и Британии, общественность раздражали агрессивные методы проповеди и навязчивая продажа литературы. В СМИ появились сообщения о мошенничестве, похищении людей и незаконном хранении оружия. СМИ изображали членов ISKCON преступниками и деструктивными неудачниками. При действительно имевшей место «незаконной» деятельности, СМИ часто преувеличивали общественную опасность этих деяний, чем откровенно клеймили кришнаитов и их организацию. Антикультисты подливали масло в огонь, используя фразы «авторитарный лидер», «контроль умов», «промывка мозгов», «насилие» (Backer 2020: 489). Общественность не понимала ISKCON. Не понимала его цели, идеалы и была откровенно враждебной к организации. Но и сам ISKCON не предпринимал активных усилий для изменения общественных представлений о себе. Основной проблемой, не считая навязчивости, было недовольство уходом близких родственников в ISKCON и практически полным разрывом семейных связей. Молодые последователи Прабхупады были достаточно фанатичными в своём рвении воплотить духовные идеалы.
Развитие ISKCON на немецкой земле существенно затормозилось, а его дальнейшее существование стояло под вопросом. Многие члены ISKCON покинули Германию. Храмы были закрыты. Много позже преданные возобновили издание литературы и начали её продавать. И только в 1994 году, спустя 25 лет, началось потепление отношений немецкого общества и ISKCON. Руководство организации признало собственные ошибки, приведшие к негативному имиджу. Эти ошибки объяснялись юношеской незрелостью, недостаточным философским пониманием и неспособностью к коммуникации (Backer 2020: 487). Для исправления ситуации и для понимания обществом культуры и обычаев ISKCON, немецкое руководство ISKCON искало путь к диалогу с другими религиями и с академическими кругами. С этой целью в 1992 году члены и друзья ISKCON основали Academy for Vaishnava Culture в Бонне. Целью академии было содействие дальнейшим исследованиям вайшнавской культуры и её роли в современном обществе. ISKCON в Германии много работал над восстановлением связей преданных со своими семьями. Регулярно стали проходить общенациональные родительские собрания с привлечением учёных и представителей христианства (Backer 2020: 489). Тем не менее, подавляющее большинство людей в Германии всё ещё очень мало знают о Движении «Харе-Кришна» и имеют неправильные о нём представления. ISKCON в ФРГ не смог использовать потенциал университетов для корректного освещения целей, истории и практики организации, что, несомненно, негативно сказалось на восприятии ISKCON не только обществом, но и на государственном уровне (Backer 2020: 494).
ISKCON в призме религиозно-социологических концепций
ISKCON — это доктринальное религиозное объединение, использующее строго регламентированную Прабхупадой, транслировавшим в деталях канон бенгальского вайшнавизма, структуру религиозных ритуалов. Центральным стержнем Движения являются не личные переживания адептов, а постоянно актуализируемые посредством лекций основные верования. На этом основании, ISKCON представляет собой доктринальное сообщество (Ketola 2002: 38, 91, 121).
Остаётся открытым вопрос о том, является ли подобная трансформация ослаблением и угасанием религиозного Движения, его растворением в социально-культурном пространстве окружающего общества или переходом в новую форму существования, при которой религиозная идентичность сохраняется, но становится более гибкой, пластичной, особенно у второго и третьего поколений последователей, т. е. переходит в форму, близкую к тому, что Макс Вебер подразумевал под «церковью»?
История американского ISKCON представляет собой пример того, как радикальный проект содействия трансформации мира умирает, когда социальная среда, способствовавшая ему и поддерживающая его, даёт сбои. Речь идёт всё о том же «приходском» принципе функционирования, близкого к общению малыми группами при более-менее регулярном посещении храма. Это произошло из-за оттока домохозяев из Движения «Харе Кришна» и превращении их в прихожан. Прихожанам, в отличие от монахов-брахмачари, приходится «разрываться» между Движением и внешним миром, приспосабливаясь к его ценностям. То же относится и к бывшим ученикам гурукул, ушедшим в обыкновенные школы (Rochford 2007: 97, 162, 216).
Из-за активных действий внутреннего «женского движения» ISKCON был вынужден отказаться от традиционной гендерной модели (муж служит/работает, жена служит мужу) (Knott 2004: 295; Rochford 2007: 125). Отказ от активной проповеди был продиктован незаинтересованностью в ней основных настоящих спонсоров — индийских общин и тех, кто понимал наличие в ISKCON социальных проблем и не желал их усугублять. Под гнетом внутренних кризисов ISKCON был вынужден приспосабливаться под окружающий мир (Rochford 2007: 7, 201).
Само содержание деятельности Движения переориентировалось на потребности домохозяев, и в нём стали доминировать семинары, программы, частные и групповые консультации на темы прикладного характера, например, «успешный брак», «воспитание детей», «личный рост», «психология», «псевдопсихологические» треннинги и т. д. Чаще всего эти программы приурочены к фестивалям, ставшим формой активного, но весьма краткосрочного проявления религиозной идентичности. Всё это говорит о том, что ISKCON перестал быть радикальным оппозиционным религиозным Движением, несущим своё специфическое послание миру, и пошёл по пути ассимиляции в ценностях окружающего общества (Rochford 2007: 201).
Движение «Харе Кришна», как проект по трансплантации традиционалистского индуистского религиозного направления на почву западной социокультурной среды, по своей сути является, в социальном плане, американским объединением, трансформировавшимся в деноминацию. На всём протяжении истории своего существования ISKCON старался стать частью западного общества, но в самом начале своего пути, тем не менее, держался на расстоянии от этого самого общества. История ISKCON — это перманентная адаптация к окружающей социальной среде. От строгих правил в какой-то момент ISKCON пришлось отказаться, пусть и не во всём, чтобы не отклонится от изначальных установок Прабхупады. Доминирующее большинство домохозяев, а также «второе поколение» последователей пришли к выводу о том, что заданный Прабхупадой стандарт религиозной практики был слишком суровым. И хотя он соответствовал цели распространения Движения на Западе, тем не менее, не подходил в качестве универсального стандарта для всех без исключения (только как идеал, которому добровольно могут следовать избравшие монашеский путь (Gresset 2009: 199).
«Второе поколение» последователей полностью ассимилировалось в американскую молодёжную школьную и студенческую среду, хотя и сохраняло определённые культурные и социальные паттерны Движения, например, вегетарианство. Прабхупада ориентировал своих последователей на создание сельскохозяйственных общин с полным самообеспечением по типу индийской деревни — с выращиванием и производством всех необходимых продуктов. Подразумевалось использование быков в качестве основной тягловой силы, заведение коровников. Однако реализация этого замысла в полной мере натолкнулась на значительные проблемы. Мало кто хотел жить «на земле», особенно последователи, выросшие в городах (Gresset 2009: 204–205).
Руководству ISKCON пришлось стать не только гибким, но и начать политику открытости, умерив проповеднический пыл. Вокруг живут люди разного вероисповедания и образа жизни, и их совсем необязательно обращать в свою «правильную веру». Изменения коснулись и отношений с индуистскими общинами. Подразумевалась «двунаправленность» таких отношений: от индийских членов ISKCON американскими заимствовались некоторые культурные практики, в том числе принципы семейного образа жизни в рамках религиозной традиции; индусы же перенимали некоторые социальные паттерны западных преданных, в частности «воскресный» принцип посещения храма.
Таким образом, ISKCON не ассимилировался в окружающее социокультурное пространство Запада, что предполагает размывание его изначального религиозного и культурного посыла, а адаптировался к нему, пройдя через кризисы внешней и внутренней легитимации. Тут мы видим признаки трансформации Движения «Харе Кришна» из культа, чуждого, замкнутого и негативно воспринимаемого внешним социальным окружением, в церковь — более открытое сообщество, состоящее из работающих домохозяев, приходящих в храм только по воскресеньям или по праздникам, гораздо менее интенсивно вовлечённых в религиозную практику (Gresset 2009: 292).
Изменения коснулись и стиля внутренней и внешней коммуникации ISKCON в Великобритании. Движение перешло из замкнутого и «мироотрицающего» в более открытое, ориентированное на внешний, в том числе межрелигиозный диалог (Knott 2000: 153). Деятельность последователей ISKCON на раннем этапе в 1970-х носила классический для раннего ISKCON, несколько навязчивый характер. Параллельно набирал силу процесс антикультистской кампании против ISKCON, сопровождавшийся негативными репортажами на телевидении, изображавшими ISKCON «промывающим мозги» «чуждым и опасным культом» (Nye 1996: 4). Чтобы изменить свой имидж в глазах британской общественности, Движение решило более тесно идентифицировать себя с индуизмом, апеллируя к термину «индуизм», с помощью местной индуистской общины, представляя себя правительству как ветвь аутентичной группы (Backer 2020: 476).
Организованный индийской молодёжью марш протеста в Лондоне в 1994 году, активное лобби парламента в 1980-х со стороны общины индийских иммигрантов, привели к тому, что в 1996 году Движение «Харе Кришна» выиграло инициированный местным правительством иск и получило формальное право на проведение публичных религиозных служб в Бхактиведанта Мэноре, поместье купленном в 1973 году Джорджем Харрисоном из Beatles, которое он подарил ISKCON (Jacobsen 2020: 5–6).
В 1980–1990-е годы происходит не только налаживание контактов с местными индусами, но и увеличение количества программ и проектов ISKCON, ориентированных на межрелигиозный диалог. ISKCON стремится участвовать в межконфессиональных конференциях с целью не только непосредственной проповеди, но и установления взаимопонимания, партнёрских отношений, рассмотрения некоторых общих философских вопросов с разных сторон. В частности, в 1990-е годы состоялись три крупные межрелигиозные конференции, в том числе с христианскими богословами. ISKCON также создаёт публичные образовательные программы в Бхактиведанта Мэноре для учителей и учеников общеобразовательных школ, и других образовательных заведений, в рамках которых знакомит их с индийской религией, историей и культурой. Таким образом, публичная активность ISKCON привела к тому, что взаимодействие кришнаитов с индуистской общиной оказалось двунаправленным, обоюдным, так что отчасти можно говорить не столько об «индуизации» ISKCON, сколько об «исконнизации» индуизма в Великобритании (Knott 2000: 160).
Сам же Прабхупада был антагонистом межкультурной коммуникации, выразившейся в ISKCON как благотворительные проекты, укрепление связей с индусами (индуизация), равным отношением к женщинам. Прабхупада учил: 1) Филантропия — это забота о временном теле, и она не имеет ценности (Prabhupada 2005: 69), 2) Сознание Кришны не является индуизмом (Rochford 1991: 271), 3) Женщины подчинены мужчинам (Knott 2004: 295, 298; Gresset 2009: 158).
Max Weber
Историю ISKCON также можно проанализировать в соответствии с моделью «великого человека». Этому способствуют социологические категории, определённые Максом Вебером, для которого «великий человек» — это харизматичный пророк, нарушающий традицию и провозглашающий радикально новое послание (Brzezinski 2004: 74). Харизма в её чисто религиозном смысле определяется как «особый дар или благодать». Мистическое понимание харизмы, конечно, по своей сути субъективно, но, тем не менее, частично совпадает с определением этого термина Вебером (1922: 140) как «чрезвычайное […] качество личности […], ради которой она ценится как обладающая сверхъестественными или сверхчеловеческими или хотя бы специфически экстраординарными силами, или качествами, недоступными всем остальным, или как направленная богом, или как образец и, следовательно, как «лидер».
Харизматики или пророки приобретают особое влияние во времена социального и культурного кризиса, и проповедуют идею о достижении более значимой и удовлетворяющей жизни, если следовать их особым учениям/взглядам. Для своих последователей Прабхупада был такой [харизматичной] личностью, носителем окончательной и спасительной истины, доступной им, если они будут верны и послушны его указаниям… (Collins 2004: 215).
Исследования разных аспектов ISKCON (по большей части социологических) начались в США уже в начале 1970-х годов. В то время ISKCON анализировался главным образом в рамках концепции секуляризации и «нового религиозного сознания», как некоторая альтернативная форма религиозности, в которую вылились поиски контркультурной молодёжью некоего «сообщества» в мире кризиса ценностей, кризиса традиционных религиозных форм, в секуляризованном, бюрократизированном и рационализированном социокультурном окружении (Robbins 1978: 97). В траектории развития ISKCON угадывается, по крайней мере, в качестве отправной точки, веберовская дихотомия «церковь-секта», в соответствии с которой «секта» — религиозная группа, объединившаяся вокруг харизматичного лидера, фанатически убеждённая в исключительности своего учения и истины, которую она проповедует, трансформируется в деноминацию или церковь — более институционализированное и бюрократизированное объединение, ориентированное на диалог с окружающим миром.
Основной характеристикой «новых религиозных движений» является их «оппозиционность», противопоставление себя окружающему обществу. Эта оппозиционность провоцирует ответные движения сопротивления со стороны общества, а также правительства. Соответственно, когда противопоставление себя миру уменьшается, происходит «притирка», «выравнивание». Это означает, что оно отказывается от своих изначальных целей изменения общества в соответствии со своими религиозными принципами, а следовательно, оказывается на пути к «старению» и трансформации в религиозную организацию (или полному исчезновению).
Кратко историю ISKCON можно представить следующим образом: на первом этапе будущие ученики знакомятся с учителем и учением, которое учитель проповедует; создаётся первый круг последователей, живущих, в основном, строго монашеской общиной. На втором этапе создаётся организация (бюрократизация), занимающаяся активной проповедью через лекции и продажу литературы; идёт накопление первого капитала. На третьем этапе создаются центры-храмы по всему миру. Череда скандалов вызывает недовольство обществом и борцов с культовыми Движениями. Организация запускает общественно значимые программы и идёт на диалог с обществом. Постепенно организация отходит от строгих стандартов и всё больше ориентируется на общественные запросы.
Международное общество сознания Кришны наиболее динамичная и массовая индуистская организация, находится в процессе ассимиляции спустя 50 лет после её создания. Взаимодействие с западной светской культурой осуществило неизбежную аккультурацию в учении Прабхупады. Нельзя сказать, что стратегии ассимиляции были чем-то принципиально новым. Революционные последователи лишь продолжили линию революционного основателя.
Несмотря на закономерные сложности переезда в инокультурную среду, Прабхупада сумел привлечь молодёжь, которая под влиянием Движения хиппи была открыта к поискам просветления, восточным психотехникам и ашрамской жизни. Вместе с тем нельзя говорить об успешной интеграции гаудия-вайшнавов в общество.
Бескомпромиссные религиозные принципы, экзотичность культовой практики, внутренние конфликты, дистанцированность от динамики жизни общества, а также активная деятельность антикультовых объединений не позволили Движению «Харе Кришна» выйти на уровень конкуренции с доминирующими конфессиями. При этом есть основания утверждать, что Общество сознания Кришны способствовало формированию нового религиозно-культурного пласта на стыке индуизма и Нью-эйдж.
Список используемой литературы
Backer, Luc De (2020): The Hare Krishna Movement in Europe. In: Jacobsen, Knut A. (Ed.), Ferdinando Sardella (Ed.): Handbook of Hinduism in Europe, 1. Leiden, Boston: Brill, P. 462–527.
Berg, Travis Vande, Fred Kniss (2008): ISKCON and Immigrants: The Rise, Decline, and Rise Again of a New Religious Movement. In: The Sociological Quarterly, 49, 1, P. 79–104.
Broo, Måns (2003): As good as God: the guru in Gaudiya Vaisnavism. Abo: Abo Akademi University Press.
Broo, Måns (2020): Hindu Gurus in Europe. In: Jacobsen, Knut A. (Ed.), Ferdinando Sardella (Ed.): Handbook of Hinduism in Europe, 1. Leiden, Boston: Brill, P. 204–214.
Bryant, Edwin F. (Ed.) und Maria L. Ekstrand (Ed.) (2004): The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant. New York: Columbia University Press.
Brzezinski, Jan (2004): Charismatic Renewal and Institutionalization in the History of Gaudiya Vaishnavism and the Gaudiya Math. In: Bryant, Edwin F. (Ed.) und Maria Ekstrand (Ed.): The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant. New York: Columbia University Press, P. 73–96.
Collins, Irvin H. (2004): The “Routinization of Charisma” and the Charismatic: The Confrontation Between ISKCON and Narayana Maharaja. In: Bryant, Edwin F. (Ed.) und Maria L. Ekstrand (Ed.): The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant. New York: Columbia University Press, P. 214–237.
Das, Rahul Peter (2006): Die Hare-Krishna-„Sekte“ (ISKCON). In: Bergunder, Michael (Ed.): Westliche Formen des Hinduismus in Deutschland: Eine Übersicht, 6. Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen zu Halle, P. 31–39.
Gressett, Michael James (2009): From Krishna Cult to American Church: The Dialectical Quest for Spiritual Dwelling in the Modern Krishna Movement in the West. Ph.D. diss. University of Florida.
Jacobsen, Knut A. (Ed.) (2020): The Plurality of Hindu Traditions in Europe. In: Handbook of Hinduism in Europe, 1. Leiden, Boston: Brill, P. 1–17.
Ketola, Kimmo (2002): An Indian Guru and His Western Disciples: Representation and Communication of Charisma in the Hare Krishna Movement: Ph.D. diss. University of Helsinki. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Knott, Kim (2000): In Every Town and Village: Adaptive Strategies in the Communication of Krishna Consciousness in the UK, the First Thirty Years. In: Social Compass, 47, 2, P. 153–167.
Knott, Kim (2004): Healing the Heart of ISKCON: The Place of Women. In: Bryant, Edwin F. (Ed.) und Maria L. Ekstrand (Ed.): The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant. New York: Columbia University Press, P. 291–311.
Lorenz, Ekkehard (2004): Race, Monarchy, and Gender: Bhaktivedanta Swami’s Social Experiment. In: Bryant, Edwin F. (Ed.) und Maria L. Ekstrand (Ed.): The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant. New York: Columbia University Press, P. 357–390.
Nye, Malory (1996): The Iskconisation of British Hinduisms. Conference on Diaspora Asian Religions, SOAS, London.
Prabhupāda, A.C. Bhaktivedānta Swami (1975): Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā. Bd. 4. New York: The Bhaktivedanta Book Trust.
Prabhupāda, A.C. Bhaktivedānta Swami (1987a): Śrīmad Bhāgavatam, Fifth Canto. Bd. 1. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust.
Prabhupāda, A.C. Bhaktivedānta Swami (1987b): Śrīmad Bhāgavatam, Fourth Canto. Bd. 1. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust.
Prabhupāda, A.C. Bhaktivedānta Swami (1987c): Śrīmad Bhāgavatam, Tenth Canto. Bd. 1. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust.
Prabhupāda, A.C. Bhaktivedānta Swami (2005): The Quest for Enlightenment: Articles from Back to Godhead magazine. Los Angeles: The Bhaktivedanta Book Trust.
Rochford, E. Burke Jr. (1991): Hare Krishna in America. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
Rochford, E. Burke Jr. (2000): Demons, Karmies, and Non-devotees: Culture, Group Boundaries, and the Development of Hare Krishna in North America and Europe. In: Social Compass, 47, 2, P. 169–186.
Rochford, E. Burke Jr. (2004): Airports, Conflict, and Change in The Hare Krishna Movement. In: Bryant, Edwin F. (Ed.) und Maria L. Ekstrand (Ed.): The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant. New York: Columbia University Press, P. 273–290.
Rochford, E. Burke Jr. (2007): Hare Krishna Transformed. New York: New York University Press.
Robbins, Thomas, Dick Anthony und James Richardson (1978): Theory and Research on Today’s “New Religions”. In: Sociological Analysis, 39, 2, P. 95–122.
Saraswati, Bhaktisiddhanta (1932): Putana. In: The Harmonist, 29, 7, P. 203–218.
Selengut, Charles (1999): Charisma and Religious Innovation: Prabhupada and the Founding of ISKCON. In: ISKCON Communications Journal, 4, 2.
Shannon, Christopher (2006): The ISKCON Revival Movement and the Ritvik Doctrine: An ISKCON Member’s View. In: Das, Rahul Peter (Ed.): The Rival Positions in the IRM–GBC Controversy within ISKCON. Südasienwissenschaftliche Arbeitsblätter, 9. Halle (Saale): Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, P. 87–154.
Strube, Julian (2020): Hinduism, Western Esotericism, and New Age Religion in Europe. In: Jacobsen, Knut A. (Ed.), Ferdinando Sardella (Ed.): Handbook of Hinduism in Europe, 1. Leiden, Boston: Brill, P. 152–173.
Vishnu, Swami Bhakti Bhavana (2004): The Guardian of Devotion: Disappearance and Rejection of the Spiritual Master in ISKCON After 1977. In: Bryant, Edwin F. (Ed.) und Maria L. Ekstrand (Ed.): The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant. New York: Columbia University Press, P. 170–193.
Weber, Max (1922): Grundriss der Sozialökonomik, III. Abteilung, Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Wilke, Annette (2020): Temple Hinduism in Europe. In: Jacobsen, Knut A. (Ed.), Ferdinando Sardella (Ed.): Handbook of Hinduism in Europe, 1. Leiden, Boston: Brill, P. 215–348.
Wolf, David (2004): Child Abuse And The Hare Krishnas: History ans Response. In: Bryant, Edwin F. (Ed.) und Maria L. Ekstrand (Ed.): The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant. New York: Columbia University Press, P. 321–344.